Раздел 1
Структурные изменения в мировой экономике
Деглобализация и фрагментация мировых рынков
За последние годы темпы глобализации заметно снизились. Международная торговля, бывшая двигателем роста прошлые десятилетия, фактически стагнирует. Так, в 2023 году объём мирового экспорта товаров и услуг вырос лишь на 0,2%, что стало самым низким показателем за последние 50 лет вне периодов глобальных кризисов. Без учёта роста торговли услугами, товарный экспорт даже сократился примерно на 2%. Ожидается, что и в 2024 году торговля восстановится слабо — суммарно за 2020−2024 годы это будет самая медленная пятилетка роста торговли с 1990-х (см. рис. ниже). Одной из причин стагнации стало усиление протекционизма и распад прежних механизмов сотрудничества. Многие страны утратили интерес к новым торговым соглашениям: в 2020-х их заключают в среднем лишь 5 в год — менее половины уровня 2000-х. Одновременно правительства всё активнее вводят барьеры: только в 2023 году по миру было принято почти 3000 новых торговых ограничений, что в пять раз больше, чем в 2015-м. (blogs.worldbank.org)
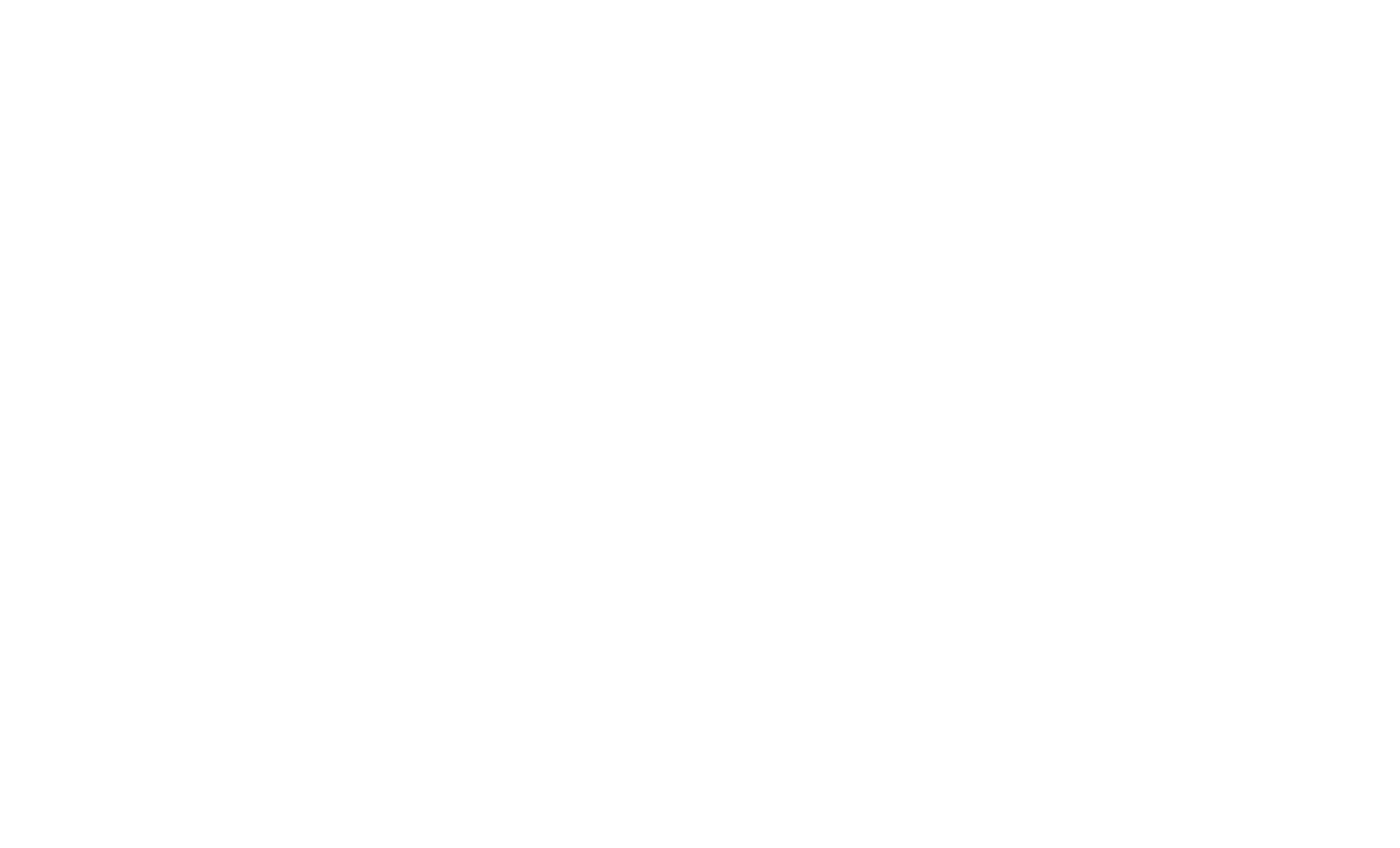
Глобальный рост торговли замедляется.
Cреднегодовые темпы расширения мировой торговли товарами и услугами по пятилетним периодам (1990−2024). Видно резкое падение показателей в последней пятилетке 2020−2024 гг., отражающее тренд «деглобализации».
Источник:
Всемирный банк — blogs.worldbank.org.
Одним из проявлений деглобализации стала фрагментация торговых блоков и регионализация экономических связей. В условиях стагнации многосторонних договорённостей крупные экономики делают ставку на региональные альянсы. Показателен пример Азиатско-Тихоокеанского региона: соглашение RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership), вступившее в силу в 2022 году, объединило 15 стран Азии и Океании. В совокупности на участников RCEP приходится около 30% мирового ВВП, что делает его крупнейшим торговым блоком в мире (en.wikipedia.org). Одновременно США, ЕС и их партнёры укрепляют собственные региональные соглашения (например, USMCA в Северной Америке, модернизация договоров ЕС с соседями). Однако создание новых блоков зачастую идёт по геополитическим линиям разлома, формируя конкурирующие экономические центры силы. Эксперты МВФ предупреждают, что крайняя геоэкономическая фрагментация — раскол мировой экономики на изолированные блоки — чревата существенными издержками. Моделирование МВФ показало: если мировая торговля разделится на два противостоящих лагеря (условно, блок США—ЕС против блока Китая—Россия) с полным разрывом связей между ними, это может привести к потере порядка 2,3% глобального ВВП на постоянной основе — эквивалент годового выпуска такой страны как Франция. Даже более ограниченный «частичный» сценарий (разрыв торговли между Западом и Россией, а также ограничения в высокотехнологичных отраслях между Западом и Китаем) обернётся снижением мирового ВВП примерно на 0,3%. Эти потери сопоставимы с шоком от пандемии 2020 года, с той разницей, что в случае фрагментации эффект будет постоянным. В стрессовом варианте — при резком разрыве цепочек и высоких издержках адаптации — глобальные потери могут достичь до 7% ВВП, что подтверждает серьёзность риска (imf.org). Таким образом, тренд деглобализации уже отражается на снижении темпов роста мировой экономики и вынуждает страны пересматривать стратегии участия в международной торговле.
Тем не менее деглобализация носит не тотальный, а селективный характер. Наряду с распадом одних связей, складываются новые торгово-инвестиционные маршруты. Например, снижаются доли США и ЕС во внешней торговле многих развивающихся стран, зато растёт роль Китая и региональных партнеров. Глобальные цепочки добавленной стоимости не исчезают, но перенастраиваются, зачастую — в более региональном формате. В числе факторов такой перестройки — не только политика, но и экономика: повышение издержек (тарифных и нетарифных), рост стоимости логистики, требования к устойчивости цепочек после шоков (COVID-19, закрытие границ, военные конфликты). В разделе 2 рассматривается, как эти драйверы ведут к практикам friendshoring, «экономического сдерживания» и другим формам геоэкономического протекционизма.
Переход к «новой индустриализации»
Нарастающая геоэкономическая конкуренция спровоцировала возвращение промышленной политики в ведущих экономиках. Страны стремятся укрепить своё технологическое и производственное суверенитет, что выразилось в ряде масштабных инициатив. Например, в США принят Inflation Reduction Act (IRA) — закон, предусматривающий $ 386 млрд государственных субсидий для развития «зелёных» технологий и высокотехнологичного производства (daily.hse.ru). ЕС отвечает собственной индустриальной стратегией (European Green Deal, программа Important Projects of Common European Interest и др.), Китай уже многие годы реализует программу «Made in China 2025» для лидерства в наукоёмких отраслях. Эти шаги знаменуют своеобразную «новую индустриализацию» в мировой экономике — возврат акцента на производство товаров (особенно высокотехнологичных) после периода доминирования сервисного сектора. В основе новой индустриализации лежит слияние производственной сферы с цифровыми технологиями — фактически, развитие индустрии 4.0. Автоматизация и роботизация производств, внедрение искусственного интеллекта (AI) и интернета вещей (IoT) меняют облик промышленных цепочек. Становится всё сложнее разделять материальное производство и нематериальные активы. Пример: крупнейшая по рыночной капитализации компания мира в 2023—2024 гг. — Nvidia — производит физические чипы, однако её ценность обусловлена нематериальным активом — технологией для AI. Инвестиционный ажиотаж вокруг цифровых инноваций (AI, облачные сервисы, большие данные) приводит к резкому росту оценки технологических фирм. Однако эти цифровые достижения в итоге дают толчок вполне материальным отраслям — от автомобилестроения (бум производства электромобилей Tesla и др., зависящий от успехов AI для автономного вождения) до энергетики (рост спроса на электроэнергию и оборудование для дата-центров). Получается замкнутый цикл: сервисы и технологии стимулируют новый виток промышленного развития, а промышленность создаёт основу для услуг (поставляя материалы, энергию, оборудование) (ng.ru). Именно такая синергия и лежит в основе «индустриализации 4.0».
Важно, что структура добавленной стоимости в экономике смещается в нематериальную сферу. В США около 90% капитализации компаний индекса S&P 500 сейчас приходится на нематериальные активы (программное обеспечение, патенты, бренды и пр.) — по сравнению с ~20% в середине XX века. Тем не менее реальный сектор остаётся базисом: как отмечают аналитики, без реального производства товаров (включая сырьё и энергию) экономика не может существовать (ng.ru). Поэтому страны стремятся не упустить промышленный потенциал в новых условиях. Реиндустриализация проявляется в тренде reshoring (возвращение производств из-за рубежа) и nearshoring (размещение заводов ближе к рынкам сбыта). По данным опросов, с 2021 года доля компаний, переносящих производство ближе к дому, существенно выросла: практика регионализации цепочек (nearshoring) увеличилась на 8 процентных пунктов, а возврат на национальную территорию (reshoring) — на 10 п.п.. Причины — стремление сократить время и риски логистики, избежать тарифов и геополитических угроз. Например, в США после торговых трений с Китаем существенно нарастили закупки у ближних соседей: Мексика и Канада стали двумя крупнейшими торговыми партнёрами США (на них совокупно более $ 1,2 трлн товарооборота). Похожие процессы идут и в Европе (фирмы переводят часть цепочек в Восточную Европу, Турцию, Северную Африку) (weforum.org).
Отдельно стоит упомянуть технологические изменения труда. Массовая автоматизация и внедрение роботов повышают производительность, но меняют спрос на рабочую силу. По оценкам, до 20% рабочих мест в развитых экономиках могут быть вытеснены автоматизацией к 2030 году. В развивающихся странах под угрозой около 10% текущих рабочих мест (weforum.org). Это требует заблаговременной адаптации рынка труда — переквалификации персонала для работы с новыми технологиями. При этом возникают и новые рабочие места — например, целая индустрия по разработке и обслуживанию промышленных роботов. Объём мирового рынка робототехники, по прогнозам BCG, вырастет с $ 25 млрд (2020) до $ 160−260 млрд к 2030 г., то есть увеличится в несколько раз. Особенно быстрыми темпами будут расти профессиональные сервисные роботы (медицина, логистика, уборка, сельское хозяйство), продажи которых превысят продажи традиционных промышленных роботов (bcg.com). Технологическое перевооружение промышленности — важная составляющая новой индустриализации: страны, опоздавшие с внедрением Industry 4.0, рискуют отстать в конкурентоспособности своей производственной базы. В то же время ведущие экономики направляют значительные ресурсы на поддержку прорывных отраслей (полупроводники, возобновляемая энергетика, электротранспорт и т. д.), что меняет структуру мировой промышленности в пользу высоких технологий.
Цифровая трансформация и платфомизация экономики
Цифровая экономика стала неотъемлемым фактором глобального роста. По данным Всемирного банка и ВЭФ, доля цифрового сектора превышает 15% мирового ВВП, и прогнозируется дальнейшее увеличение. В ближайшие годы именно цифровые платформы и решения могут генерировать львиную долю прироста стоимости: до 70% новой добавленной стоимости в мировой экономике к 2030 г. будет создаваться с участием цифровых технологий и бизнес-моделей платформенного типа. (weforum.org) Практически во всех отраслях наблюдается проникновение IT: от финансов (финтех, криптоактивы) до агросектора (AgTech, системы точного земледелия). Данные становятся новым «нефтью» экономики — источником ценности, вокруг которого выстроены бизнесы гигантов (Big Tech корпорации).
Ключевые направления цифровой трансформации 2020-х годов включают:
- Развитие искусственного интеллекта (AI)
- Экспансия e-commerce и финтеха
- Интернет вещей (IoT) и 5G
- Кибербезопасность и цифровой суверенитет
Развитие искусственного интеллекта (AI)
Особенно заметен прорыв в областях машинного обучения и генеративных моделей ИИ. Это повышает эффективность анализа данных, автоматизации процессов, открывает новые сервисы (персонализированные услуги, автономный транспорт и др.). Согласно исследованиям, внедрение AI способно ускорять рост производительности труда: например, в США потенциальный вклад генеративного ИИ оценивается до +0,5−0,9 п.п. к ежегодному росту производительности в 2023—2030 гг. (mckinsey.com).
Экспансия e-commerce и финтеха
Электронная торговля продолжает отвоёвывать долю у офлайна, особенно после пандемии. Глобальный рынок e-commerce превысил $ 5 трлн и растёт двузначными темпами в развивающихся странах. Цифровые платежи и финтех-сервисы расширяют финансовую включённость: по оценкам McKinsey, цифровые финансовые услуги могут добавить до $ 3,7 трлн к ВВП развивающихся стран к 2025 г.
Интернет вещей (IoT) и 5G
Число подключённых к интернету устройств стремится к десяткам миллиардов, что радикально меняет процессы в промышленности (смарт-фабрики), городском хозяйстве (умные города) и быту. Быстрое распространение сетей 5-го поколения (5G) обеспечивает необходимую инфраструктуру — высокую пропускную способность и малые задержки для IoT, беспилотных автомобилей, телемедицины и пр.
Кибербезопасность и цифровой суверенитет
Обратная сторона цифровизации. Угрозы кибератак и утечки данных заставляют государства и компании инвестировать в защиту. Появляются регулятивные требования по локализации данных, контролю за трансграничными передачами (что отчасти коррелирует с общим трендом фрагментации интернета на национальные сегменты — «splinternet»).
COVID-19 стал мощным катализатором цифровой трансформации: удалённая работа, онлайн-сервисы, цифровое правительство — всё это ускорилось на несколько лет вперёд. Однако быстрая цифровизация породила новое неравенство между странами и внутри них — разрыв в доступе к технологиям. По данным ООН, около 2,7 млрд человек в мире всё ещё не имеют доступа к интернету. Для достижения всеобщей цифровой включённости требуется крупные инвестиции — порядка $ 430 млрд нужно вложить для обеспечения глобального широкополосного доступа (weforum.org).
Одним из главных геоэкономических вопросов стала битва за технологическое лидерство. Диджитализация экономики означает, что страна, контролирующая ключевые цифровые платформы, стандарты и патенты, получает значительное влияние. Не случайно дискуссии о технонационализме усилились: правительства всё чаще вмешиваются в технологический сектор, стремясь защитить «национальных чемпионов» IT и ограничить влияние иностранных (об этом — в разделе 2).
Подводя итог разделу: мировая экономика входит в 2025—2030 гг. в обновлённой структуре. Темпы глобальной интеграции замедлились, формируется более сложная мозаика торгово-экономических блоков. Производственный сектор переживает цифровую эволюцию — новая индустриализация на базе высоких технологий и роботизации, поддерживаемая активной государственной политикой в ряде стран. Одновременно сервисно-цифровой сегмент стал определяющим источником стоимости, а платформенные бизнесы — новой нормой. В таких условиях конкуренция держав приобретает экономическое измерение: не только военное или политическое противостояние, но и борьба за рынки, цепочки поставок, стандарты и технологии. Далее рассмотрим, как проявляется эта геоэкономическая конкуренция и какие стратегии используют страны.
Назад
Введение
